Как к нам в дом пришла война
В нашей стране нет такой семьи, которой бы ни коснулась война. Наши отцы, деды и прадеды отдали свои жизни и здоровье, чтобы у нас было мирное небо над головой. Сегодня «СГУщёнка» рассказывает о героях из обычных семей. Эти истории нам передали наши близкие и родные, которые запомнили войну такой, какой увидели её в детстве.
Татьяна Дугина:
«Военные действия, конечно, коснулись и моей семьи. Держа в руках слегка потрепанную тетрадку, я невольно задумываюсь над тем, насколько сильным морально должен быть человек, чтобы по памяти воспроизвести все те страшные моменты на бумаге. Итак, я предлагаю вместе со мной погрузиться в военную хронику моей семьи.
Повествование пойдёт от лица двоюродной бабушки, Александры Васильевны Антоновой. Дневниковые записи она вела ещё в далёкие семидесятые годы, проживая вдали от своей малой родины и тоскуя по ней.
«В семье отца все – шесть братьев и три сестры – были дружны и внимательны друг к другу», – пишет Александра Васильевна. Она же подмечает: «Пели в роду Матвеевых все: от мала до велика».
Позже счастливые времена для семьи закончились. Наступили страшные годы войны. Она, словно гром среди ясного неба, разразилась, когда её совсем никто не ждал.
«Только мы стали из лога на гору подниматься, как вдруг то в одном, то в другом конце улицы раздался отчаянный женский крик, плач. Мама тоже нас встретила со слезами. Сразу не сообразили, в чём дело».
«Военные действия, конечно, коснулись и моей семьи. Держа в руках слегка потрепанную тетрадку, я невольно задумываюсь над тем, насколько сильным морально должен быть человек, чтобы по памяти воспроизвести все те страшные моменты на бумаге. Итак, я предлагаю вместе со мной погрузиться в военную хронику моей семьи.
Повествование пойдёт от лица двоюродной бабушки, Александры Васильевны Антоновой. Дневниковые записи она вела ещё в далёкие семидесятые годы, проживая вдали от своей малой родины и тоскуя по ней.
«В семье отца все – шесть братьев и три сестры – были дружны и внимательны друг к другу», – пишет Александра Васильевна. Она же подмечает: «Пели в роду Матвеевых все: от мала до велика».
Позже счастливые времена для семьи закончились. Наступили страшные годы войны. Она, словно гром среди ясного неба, разразилась, когда её совсем никто не ждал.
«Только мы стали из лога на гору подниматься, как вдруг то в одном, то в другом конце улицы раздался отчаянный женский крик, плач. Мама тоже нас встретила со слезами. Сразу не сообразили, в чём дело».
И ещё никто не успел опомниться, а уже «полетели» от одного дома к другому повестки. Первым отправился на фронт отец бабушки. Его звали Василий.
Тогда надеялись и верили, что война будет недолгой. Насколько она будет кровопролитной – люди ещё не предполагали. Младший сын прадеда, также названый Васей, часто и настойчиво просил:
- Папаня, возьми меня с собой!
На что отец отвечал:
- Нет, сынок! Рано тебе туда. Оставайся мамке помощником.
Тогда надеялись и верили, что война будет недолгой. Насколько она будет кровопролитной – люди ещё не предполагали. Младший сын прадеда, также названый Васей, часто и настойчиво просил:
- Папаня, возьми меня с собой!
На что отец отвечал:
- Нет, сынок! Рано тебе туда. Оставайся мамке помощником.
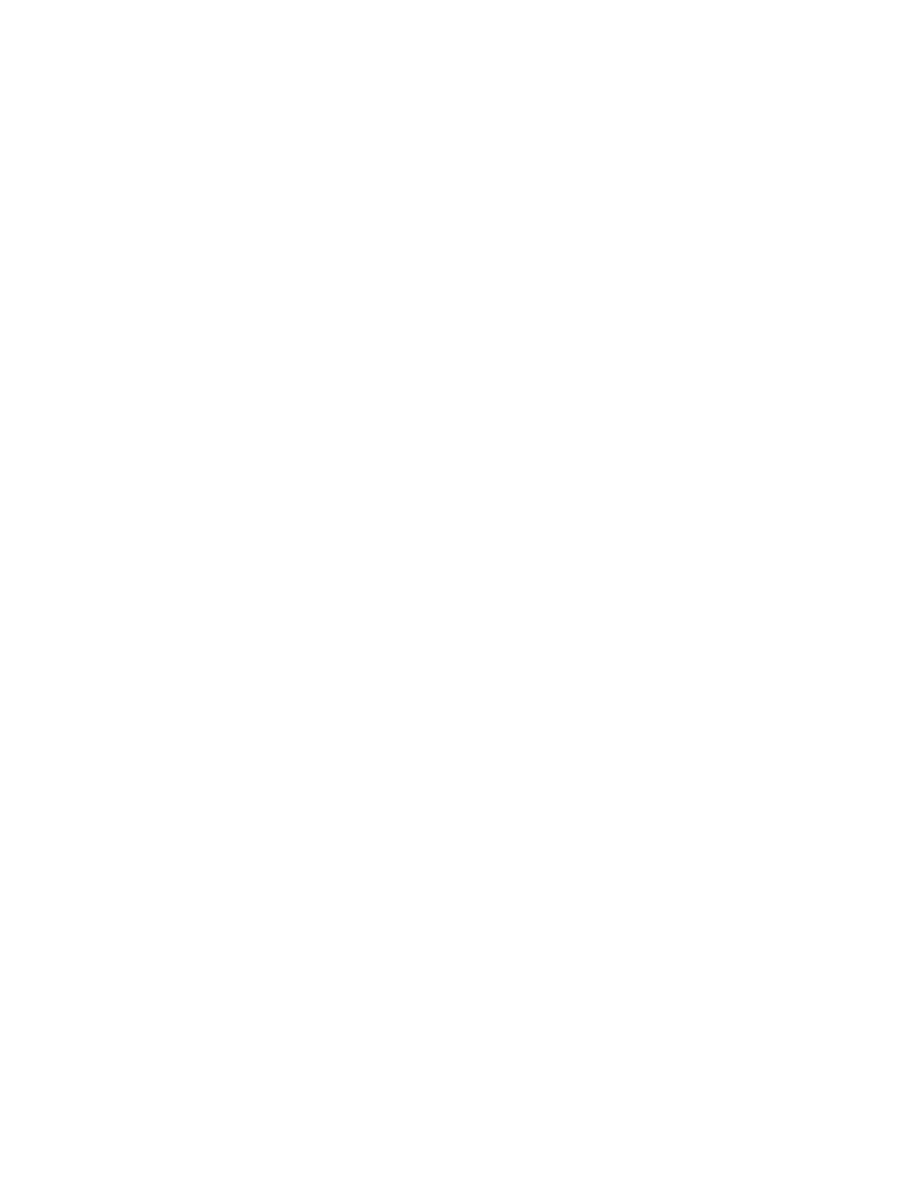
Что ощущала в тот момент прабабушка, молодая жена и мать пятерых детей? Пустоту, страх неизвестности…
«Мать стояла оцепеневшая, по щекам струились слёзы, руки повисли, как плети».
Первое военное лето 1941, судя по бабушкиным запискам, выдалось знойным. Каждый, невзирая на возраст, выходил в поле и работал.
«Женщины и девушки косили хлеб и траву, а девочки девяти-одиннадцати лет подгребали их в валки. Молотили хлеб молотилкой, кидая туда снопьё, а потом зерно грузили в ящики, и мальчишки на подводах, запряжённых парой волов, везли его на станцию, на элеватор, за девятнадцать километров, к ночи возвращались домой, а на следующий день всё повторялось снова…»
Несмотря на то, что работать приходилось сутками напролёт, бабушка пишет обо всём легко и непринуждённо. Она смотрела на всё глазами ребёнка, ведь в 1941 году ей было всего шесть лет. И кажется, что с тем временем у неё связаны только хорошие воспоминания, но это, конечно, не так.
Вскоре фашисты стали бомбить и станцию. Прабабушка стала переживать, как бы не убили её брата, ведь он чаще других сопровождал телеги с зерном. Но, слава богу, всякий раз он возвращался домой невредимым.
«Мать стояла оцепеневшая, по щекам струились слёзы, руки повисли, как плети».
Первое военное лето 1941, судя по бабушкиным запискам, выдалось знойным. Каждый, невзирая на возраст, выходил в поле и работал.
«Женщины и девушки косили хлеб и траву, а девочки девяти-одиннадцати лет подгребали их в валки. Молотили хлеб молотилкой, кидая туда снопьё, а потом зерно грузили в ящики, и мальчишки на подводах, запряжённых парой волов, везли его на станцию, на элеватор, за девятнадцать километров, к ночи возвращались домой, а на следующий день всё повторялось снова…»
Несмотря на то, что работать приходилось сутками напролёт, бабушка пишет обо всём легко и непринуждённо. Она смотрела на всё глазами ребёнка, ведь в 1941 году ей было всего шесть лет. И кажется, что с тем временем у неё связаны только хорошие воспоминания, но это, конечно, не так.
Вскоре фашисты стали бомбить и станцию. Прабабушка стала переживать, как бы не убили её брата, ведь он чаще других сопровождал телеги с зерном. Но, слава богу, всякий раз он возвращался домой невредимым.
А вот, что в эти же годы было с родственниками, которые сражались на фронте.
«Отец в это время, как и два его брата, Фёдор и Пётр, стояли грудью на подступах к Москве. Пётр был ранен, когда повёл солдат в атаку. Отец подбил несколько танков. Его представили к награде, но вскоре он был ранен под Серпуховым (город, из которого пошли наши корни), после чего его отправили в госпиталь. Отец считал рану пустяковой. Перед приходом врачей он стряхивал ртутный градусник и просился на фронт. Когда рана стала немного заживать, его отпустили домой на три дня. Какая для нас это была радость! Все вечера проговорили всей семьёй…»
Так и прошёл «отдых» Василия. Как во сне побывал дома, повидался с родными земляками и снова на долгое время ушёл из родного гнезда. А семья снова стала ждать своего кормильца.
«Отец в это время, как и два его брата, Фёдор и Пётр, стояли грудью на подступах к Москве. Пётр был ранен, когда повёл солдат в атаку. Отец подбил несколько танков. Его представили к награде, но вскоре он был ранен под Серпуховым (город, из которого пошли наши корни), после чего его отправили в госпиталь. Отец считал рану пустяковой. Перед приходом врачей он стряхивал ртутный градусник и просился на фронт. Когда рана стала немного заживать, его отпустили домой на три дня. Какая для нас это была радость! Все вечера проговорили всей семьёй…»
Так и прошёл «отдых» Василия. Как во сне побывал дома, повидался с родными земляками и снова на долгое время ушёл из родного гнезда. А семья снова стала ждать своего кормильца.
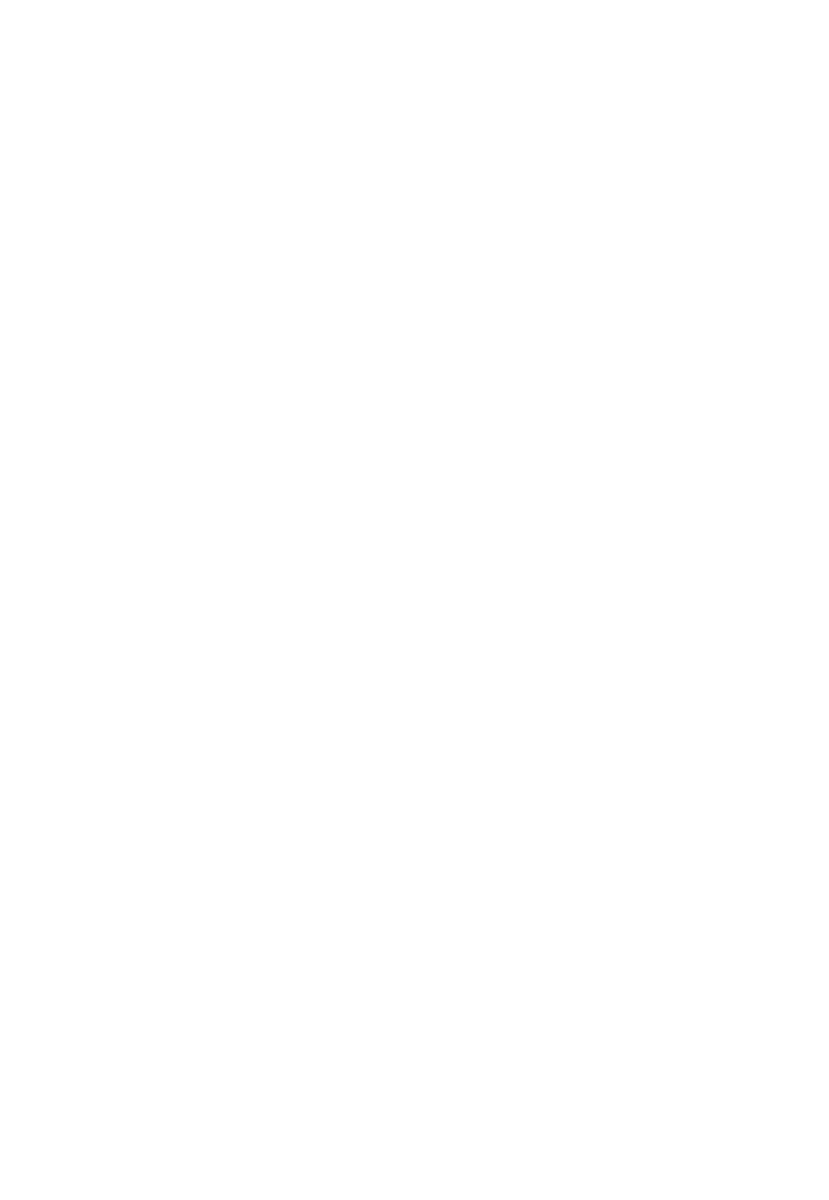
Самым страшным оказался 1942 год. До этого хоть и редко, но от отца всё же приходили «треугольнички». В один момент писем не стало.
«Мама всё выбегала на дорогу встречать почтальона, но, как и всегда – не было письма».
В то время шли жестокие бои под Воронежем. Все боялись прихода немцев. Однажды, глубокой ночью, за дверью послышались громкий шум и топот. В дверь постучали. Встревоженная женщина отварила стучавшим.
Насквозь промокшие, измученные солдаты ввалились в избу. Хозяйка затолкала детей на печку, достала из неё щи, картошку с огурцами. На полу расстелила солому, и солдаты попадали, мгновенно уснув. А мать «всю ночь стирала и сушила на печи портянки, обмотки».
Прабабушка, по запискам бабушки, была очень гордым и серьёзным человеком.
«…командир хотел отблагодарить, всё хотел ей денег дать, она не взяла их».
Но всё-таки позже командир сунул их в печурку у загнетки за занавеской. Но мама, найдя их, «всё сокрушалась, зачем, мол, он это сделал? Сами голодные, измученные».
Шли недели, месяцы, а от отца вестей всё не было. Спасала лишь вера. По воскресениям и праздникам собирались матери и жёны помолиться о своих воинах, о мире у кого-нибудь в доме (церкви в селе не было).
«В отличие от других женщин мама моя была самой земной, часто плакала. Ведь столько на неё свалилось!»
Совсем скоро довелось семье пережить страшное известие. Это было в начале 1943 года. Бабушкин брат тогда прибежал домой и сел на печку. Мама, взволновавшись за него, быстро метнулась к нему.
- Вань, обидел, что ли кто?
- Нет!
- А что же случилось? Иль про отца чего услыхал?
- Да, соседи спросили: «Вань, что про отца-то прислали?» Я переспросил: «Что прислали?» «Да дед Михаил забрал в правлении бумагу, чтоб мать не убить таким известием».
И тут пришлось рассказать маме. Принесли письмо с известием о том, что её муж, Василий Павлович Матвеев, находясь на фронте, пропал без вести. Ниже подпись и печать. Сбоку была какая-то вырезка. Мать думала, что там было написано «убит» или «погиб».
Неподалёку жила семья бабушки Натальи. У неё в это время воевали пятеро из шести сыновей. Оставался только младший Тимофей, ему на тот момент было шестнадцать лет. Он старался ободрить мать Матвеевых и предложил ей погадать на сите. Стали гадать: жив Василий или нет. Сито уверенно показывало первый результат. От этого в душе женщины затеплилась надежда.
Чудеса – они на то и чудеса, чтобы сбываться, когда их сильно-сильно ждут. Однажды среди ночи в дверь постучали. Мать насторожилась – так поздно никто обходов не делал. Стук продолжался.
«Мама спросила:
- Кто там?
- Хозяюшка, пусти переночевать.
- Не могу. У меня дети и на печи, и на полу – изба тесная.
- Да впусти, хозяюшка.
И вдруг ей показалось, что это голос мужа. Стоит вся оцепеневшая. Не сон ли?
- Ну что, хозяйка, надумала?
- Василий, да неужто это ты?
- Я, я…»
Это ли не чудо! Прабабушка сразу побежала тормошить ребят, чтобы те проснулись.
« - Дети, вставайте, радость-то какая! Отец-то живой пришёл.
Вся семья долго не могла заснуть…»
Отец бабушки потом рассказал историю спасения.
Он был взят в плен, строил многочисленные варианты побега, но ни один из них не привёл к желанному результату. Когда стали грузить в эшелон пленных, чтобы везти в Германию, отец чётко поставил цель: «Пусть убьют, но туда не поеду. Это единственный и последний шанс». Для отговорки, он придумал, будто бы забыл свой вещмешок.
Возвратился назад и сумел спрятаться в стоге сена, а знакомый старик помог. Потом отец услышал какое-то движение и шаги. Это был ещё один, такой же как и он, беглец.
«Мама всё выбегала на дорогу встречать почтальона, но, как и всегда – не было письма».
В то время шли жестокие бои под Воронежем. Все боялись прихода немцев. Однажды, глубокой ночью, за дверью послышались громкий шум и топот. В дверь постучали. Встревоженная женщина отварила стучавшим.
Насквозь промокшие, измученные солдаты ввалились в избу. Хозяйка затолкала детей на печку, достала из неё щи, картошку с огурцами. На полу расстелила солому, и солдаты попадали, мгновенно уснув. А мать «всю ночь стирала и сушила на печи портянки, обмотки».
Прабабушка, по запискам бабушки, была очень гордым и серьёзным человеком.
«…командир хотел отблагодарить, всё хотел ей денег дать, она не взяла их».
Но всё-таки позже командир сунул их в печурку у загнетки за занавеской. Но мама, найдя их, «всё сокрушалась, зачем, мол, он это сделал? Сами голодные, измученные».
Шли недели, месяцы, а от отца вестей всё не было. Спасала лишь вера. По воскресениям и праздникам собирались матери и жёны помолиться о своих воинах, о мире у кого-нибудь в доме (церкви в селе не было).
«В отличие от других женщин мама моя была самой земной, часто плакала. Ведь столько на неё свалилось!»
Совсем скоро довелось семье пережить страшное известие. Это было в начале 1943 года. Бабушкин брат тогда прибежал домой и сел на печку. Мама, взволновавшись за него, быстро метнулась к нему.
- Вань, обидел, что ли кто?
- Нет!
- А что же случилось? Иль про отца чего услыхал?
- Да, соседи спросили: «Вань, что про отца-то прислали?» Я переспросил: «Что прислали?» «Да дед Михаил забрал в правлении бумагу, чтоб мать не убить таким известием».
И тут пришлось рассказать маме. Принесли письмо с известием о том, что её муж, Василий Павлович Матвеев, находясь на фронте, пропал без вести. Ниже подпись и печать. Сбоку была какая-то вырезка. Мать думала, что там было написано «убит» или «погиб».
Неподалёку жила семья бабушки Натальи. У неё в это время воевали пятеро из шести сыновей. Оставался только младший Тимофей, ему на тот момент было шестнадцать лет. Он старался ободрить мать Матвеевых и предложил ей погадать на сите. Стали гадать: жив Василий или нет. Сито уверенно показывало первый результат. От этого в душе женщины затеплилась надежда.
Чудеса – они на то и чудеса, чтобы сбываться, когда их сильно-сильно ждут. Однажды среди ночи в дверь постучали. Мать насторожилась – так поздно никто обходов не делал. Стук продолжался.
«Мама спросила:
- Кто там?
- Хозяюшка, пусти переночевать.
- Не могу. У меня дети и на печи, и на полу – изба тесная.
- Да впусти, хозяюшка.
И вдруг ей показалось, что это голос мужа. Стоит вся оцепеневшая. Не сон ли?
- Ну что, хозяйка, надумала?
- Василий, да неужто это ты?
- Я, я…»
Это ли не чудо! Прабабушка сразу побежала тормошить ребят, чтобы те проснулись.
« - Дети, вставайте, радость-то какая! Отец-то живой пришёл.
Вся семья долго не могла заснуть…»
Отец бабушки потом рассказал историю спасения.
Он был взят в плен, строил многочисленные варианты побега, но ни один из них не привёл к желанному результату. Когда стали грузить в эшелон пленных, чтобы везти в Германию, отец чётко поставил цель: «Пусть убьют, но туда не поеду. Это единственный и последний шанс». Для отговорки, он придумал, будто бы забыл свой вещмешок.
Возвратился назад и сумел спрятаться в стоге сена, а знакомый старик помог. Потом отец услышал какое-то движение и шаги. Это был ещё один, такой же как и он, беглец.
«Ночью довёл старик их огородами до околицы, дал по краюхе хлеба и картошки варёной:
- Ну, сынки, с Богом!»
Так и шёл по ночам Василий, ориентируясь по звёздам, а днём прячась то в перелесках, то в оврагах, пока не пересёк линию фронта. Пришёл он в военкомат и рассказал о своих «приключениях», всё проверили, и только потом пустили повидаться в родными.
Тогда всё ещё тянулись военные дни. И вот, наконец, и наступил миг счастья и радости для каждого жителя нашей страны.
Хотелось бы закончить эту непростую историю семьи Матвеевых всё теми же строчками из фамильной хроники:
«Наконец-то вошла (в школьный класс) учительница какая-то необыкновенно сияющая, ещё светлее, чем всегда, в белом батистовом платье голубыми цветами, и объявила:
- Ребята! Сегодня очень большая радость – война кончилась! … Бегите быстрее, обрадуйте матерей и бабушек».
…Мы и плакали, и смеялись. Не верилось, что это правда».
- Ну, сынки, с Богом!»
Так и шёл по ночам Василий, ориентируясь по звёздам, а днём прячась то в перелесках, то в оврагах, пока не пересёк линию фронта. Пришёл он в военкомат и рассказал о своих «приключениях», всё проверили, и только потом пустили повидаться в родными.
Тогда всё ещё тянулись военные дни. И вот, наконец, и наступил миг счастья и радости для каждого жителя нашей страны.
Хотелось бы закончить эту непростую историю семьи Матвеевых всё теми же строчками из фамильной хроники:
«Наконец-то вошла (в школьный класс) учительница какая-то необыкновенно сияющая, ещё светлее, чем всегда, в белом батистовом платье голубыми цветами, и объявила:
- Ребята! Сегодня очень большая радость – война кончилась! … Бегите быстрее, обрадуйте матерей и бабушек».
…Мы и плакали, и смеялись. Не верилось, что это правда».
P. S. Тетрадь, как семейная реликвия, хранится сейчас дома у моей родной бабушки - сестры владелицы дневника. Мы нередко перечитываем из неё отдельные фрагменты. Вдохновившись подвигом своей семьи, моя бабушка, самая младшая из семьи Матвеевых, написала стихотворение, которое теперь красуется на самой последней странице тетради и напоминает о том, что подвиг страшных временных лет не забыт! А дневник так и будет передаваться из поколения в поколение в нашей семье как высшая ценность.
Ах, как славно когда-то
Пела наша семья:
«Снежки белы-пушисты
Что легли на поля».
Воевал отец мой
И пять братьев его,
Повезло! Все вернулись!
Нет уже никого!
Догоняла война их
Уже в мирные дни,
И снега укрывают,
Что воспели они.
В день Победы над миром
Вновь салют расцветёт,
У солдатских потомков
Память в сердце живёт.
Шаталова (Матвеева) Валентина Васильевна».
Ах, как славно когда-то
Пела наша семья:
«Снежки белы-пушисты
Что легли на поля».
Воевал отец мой
И пять братьев его,
Повезло! Все вернулись!
Нет уже никого!
Догоняла война их
Уже в мирные дни,
И снега укрывают,
Что воспели они.
В день Победы над миром
Вновь салют расцветёт,
У солдатских потомков
Память в сердце живёт.
Шаталова (Матвеева) Валентина Васильевна».
Александра Дьякова:
«У меня, наверное, уникальная семья, которая некоторым образом опровергает известную песенную строчку «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». И это большое счастье.
На войне был только дядя моего дедушки – Николай Иванович Калганов. Про него я знаю немного, даже фотографии нет. Он был политруком, прошёл всю войну, вернулся израненный осколками и на протяжении оставшейся жизни они из него, по словам дедушки, «лезли», что доставляло страшные муки.
Отец моего деда был красным комиссаром и до войны не дожил. Но у него было много политической литературы, и в годы войны мать моего деда передала книги Николаю Ивановичу – немцы были уже в Туле, и она боялась, что её убьют, как коммунистку.
«У меня, наверное, уникальная семья, которая некоторым образом опровергает известную песенную строчку «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». И это большое счастье.
На войне был только дядя моего дедушки – Николай Иванович Калганов. Про него я знаю немного, даже фотографии нет. Он был политруком, прошёл всю войну, вернулся израненный осколками и на протяжении оставшейся жизни они из него, по словам дедушки, «лезли», что доставляло страшные муки.
Отец моего деда был красным комиссаром и до войны не дожил. Но у него было много политической литературы, и в годы войны мать моего деда передала книги Николаю Ивановичу – немцы были уже в Туле, и она боялась, что её убьют, как коммунистку.
Наверное, настоящим героем для меня является мой дедушка – Леонид Иванович Трошин. Когда началась война, ему было 7 лет. Он не любит вспоминать это тяжёлое время. Вместе со старшей сестрой они ездили из города в сельскую местность – менять вещи на картошку. Обратно ехали в поезде, забившись под сиденья – никаких денег, конечно, не было.
Зимой 1941 года зенитки стояли прямо у них на придомовом участке, все были в панике, что немцы займут Тулу. Навсегда в памяти деда сохранилась картина, как горел артиллерийский склад, в который попала бомба – зарево было видно за много километров. Также одним из ярких детских впечатлений стали моменты бомбёжки. Дед вспоминает, что его бабушка, клала его на печку, закапывала в подушки и наказывала читать «Отче наш».
Зимой 1941 года зенитки стояли прямо у них на придомовом участке, все были в панике, что немцы займут Тулу. Навсегда в памяти деда сохранилась картина, как горел артиллерийский склад, в который попала бомба – зарево было видно за много километров. Также одним из ярких детских впечатлений стали моменты бомбёжки. Дед вспоминает, что его бабушка, клала его на печку, закапывала в подушки и наказывала читать «Отче наш».
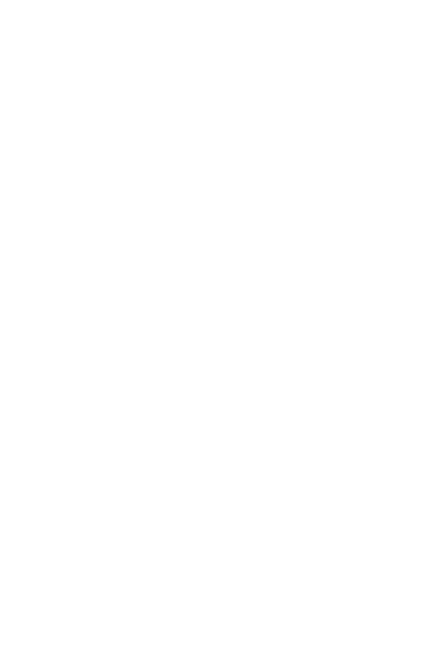
День Победы 1945 года дед не помнит. Говорит, что в памяти отложились только тяжёлые моменты. После войны он поступил в Суворовское училище и продолжил дело своего отца и дяди – стал военным, строил космодром Байконур, создал семью и до сих пор является для нас примером непреодолимого оптимизма и стойкости».
Александра Головачёва:
«Мой дедушка Сергей Алексеевич Мясников не был на фронте. Когда началась война, ему было около 10 лет. Несмотря на это, его история многое расскажет о том страшном времени и позволит понять, что человечность – это качество характера, независящее от внешних обстоятельств и родственных связей.
«Мой дедушка Сергей Алексеевич Мясников не был на фронте. Когда началась война, ему было около 10 лет. Несмотря на это, его история многое расскажет о том страшном времени и позволит понять, что человечность – это качество характера, независящее от внешних обстоятельств и родственных связей.
Представить положение дел, какое было в семье моего деда в военные годы поможет небольшая предыстория. В 1937 году отец дедушки умер, а это значит, что его жена и дети лишились кормильца. Затем в самом начале войны частично сгорел дом, а в нём и карточки на хлеб. Молодая женщина оказалась на улице одна с тремя детьми. Она не нашла выход лучше, чем начать жизнь с чистого листа: оставить малышей одних и уехать с новым молодым человеком.
Старшей дочери Зине повезло больше всех. Её мать «определила» в столовую. Здесь за помощь работникам девочка могла рассчитывать на остатки от обедов. Пусть и скудная – а всё-таки пища.
Младшие Тоня и Серёжа о решении матери не знали до последнего. Всё стало ясно, когда она не вернулась и спустя неделю. Дети продолжали ходить в школу и жили в уцелевшей части дома. Затем наступили холода – это стало настоящей проверкой на прочность. Еды не было почти никакой. И, как уже было сказано, получить спасительный хлеб без карточек стало невозможно. Чтобы как-то протопить своё жилище, брат и сестра собирали на железнодорожной станции уголь, который падал из полувагонов проходящих мимо поездов.
Старшей дочери Зине повезло больше всех. Её мать «определила» в столовую. Здесь за помощь работникам девочка могла рассчитывать на остатки от обедов. Пусть и скудная – а всё-таки пища.
Младшие Тоня и Серёжа о решении матери не знали до последнего. Всё стало ясно, когда она не вернулась и спустя неделю. Дети продолжали ходить в школу и жили в уцелевшей части дома. Затем наступили холода – это стало настоящей проверкой на прочность. Еды не было почти никакой. И, как уже было сказано, получить спасительный хлеб без карточек стало невозможно. Чтобы как-то протопить своё жилище, брат и сестра собирали на железнодорожной станции уголь, который падал из полувагонов проходящих мимо поездов.
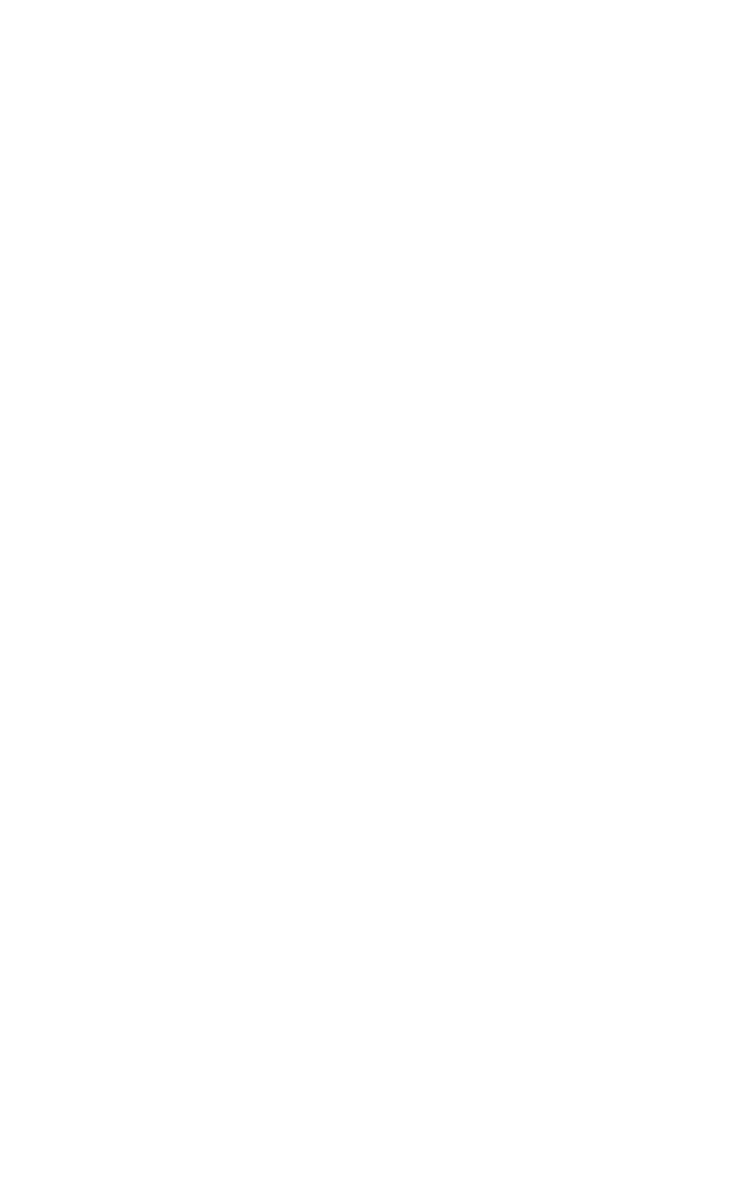
Однажды дети обрадовались особой находке – очень большому куску угля, им они надеялись топить дом дольше обычного, чтобы реже выходить на улицу и тем самым экономить последние жизненные силы. Однако вслед за радостью пришло разочарование. Принесённое «топливо» оказалось ничем иным как перепачканной человеческой головой.
Спустя ещё немного времени наступили самые мрачные дни. Маленькие Серёжа и Тоня обессилили окончательно. Они совсем уже не выходили из дома. К ним бодрыми и уверенными шагами подступала голодная смерть. От недостатка пищи Тоня стала «пухнуть», её фигура изменилась так сильно, что брат даже начал подозревать, что она ест тайком от него.
Отчаявшиеся, измождённые и продрогшие дети уже не ждали подарков судьбы, но она всё-таки решила им их преподнести. Брата и сестру нашёл японский разведчик. Кто-то назовёт такой «сюрприз» сомнительным и даже таящим опасность, ведь знакомство с солдатом армии противника не сулит ничего хорошего. А всё же разведчик из Японии доказал, что все эти мысли – порождение предрассудков. Любой из нас – в первую очередь человек, а уж потом гражданин той или иной страны. Видимо, солдату были хорошо знакомы такие чувства, как любовь и сострадание, поэтому причинить вред детям он не мог. Он постепенно привёл их в чувства, отпоил водой с размоченным в ней хлебом, поделился своим пайком и научил подростков сажать картошку и утеплять жильё с помощью мха.
Встречи с разведчиком были редкими, вскоре он и вовсе пропал. Никто не знает, как сложилась его судьба. Дедушка очень переживал, что его убили. В те годы на Дальнем Востоке было очень много японских захоронений. По традиции тела умерших погребали в положении сидя, из-за того что солдат хоронили в спешке, нередко обнажались их головы. Маленькие мальчишки, воображая себя героями, стреляли по головам противников из рогаток. И только дедушка, храня память о своём японском спасителе, украдкой присыпал эти головы землёй.
После войны прошло много лет, и мать деда снова дала о себе знать. Она отыскала детей, молила их простить её. И дедушка простил. Вскоре она снова его предала, разрушив семью родителей его возлюбленной. Я не берусь осуждать эту женщину, потому что за моими плечами, конечно, никогда не было такого жуткого опыта. Задумываясь о том, что случилось, я лишь вспоминаю о том японском «самарянине» и понимаю, что близким человеком можно назвать только того, кто действительно готов быть рядом с тобой – даже в самые горькие моменты жизни».
Спустя ещё немного времени наступили самые мрачные дни. Маленькие Серёжа и Тоня обессилили окончательно. Они совсем уже не выходили из дома. К ним бодрыми и уверенными шагами подступала голодная смерть. От недостатка пищи Тоня стала «пухнуть», её фигура изменилась так сильно, что брат даже начал подозревать, что она ест тайком от него.
Отчаявшиеся, измождённые и продрогшие дети уже не ждали подарков судьбы, но она всё-таки решила им их преподнести. Брата и сестру нашёл японский разведчик. Кто-то назовёт такой «сюрприз» сомнительным и даже таящим опасность, ведь знакомство с солдатом армии противника не сулит ничего хорошего. А всё же разведчик из Японии доказал, что все эти мысли – порождение предрассудков. Любой из нас – в первую очередь человек, а уж потом гражданин той или иной страны. Видимо, солдату были хорошо знакомы такие чувства, как любовь и сострадание, поэтому причинить вред детям он не мог. Он постепенно привёл их в чувства, отпоил водой с размоченным в ней хлебом, поделился своим пайком и научил подростков сажать картошку и утеплять жильё с помощью мха.
Встречи с разведчиком были редкими, вскоре он и вовсе пропал. Никто не знает, как сложилась его судьба. Дедушка очень переживал, что его убили. В те годы на Дальнем Востоке было очень много японских захоронений. По традиции тела умерших погребали в положении сидя, из-за того что солдат хоронили в спешке, нередко обнажались их головы. Маленькие мальчишки, воображая себя героями, стреляли по головам противников из рогаток. И только дедушка, храня память о своём японском спасителе, украдкой присыпал эти головы землёй.
После войны прошло много лет, и мать деда снова дала о себе знать. Она отыскала детей, молила их простить её. И дедушка простил. Вскоре она снова его предала, разрушив семью родителей его возлюбленной. Я не берусь осуждать эту женщину, потому что за моими плечами, конечно, никогда не было такого жуткого опыта. Задумываясь о том, что случилось, я лишь вспоминаю о том японском «самарянине» и понимаю, что близким человеком можно назвать только того, кто действительно готов быть рядом с тобой – даже в самые горькие моменты жизни».
«СГУщёнка» говорит спасибо всем ветеранам! Мы никогда не забудем вашего великого подвига!

